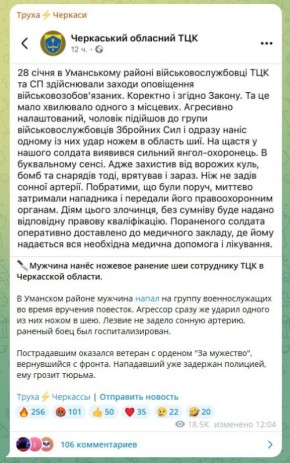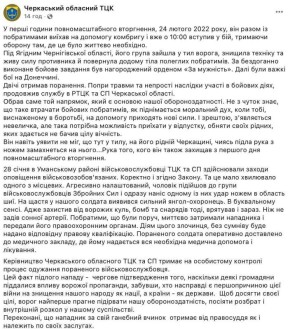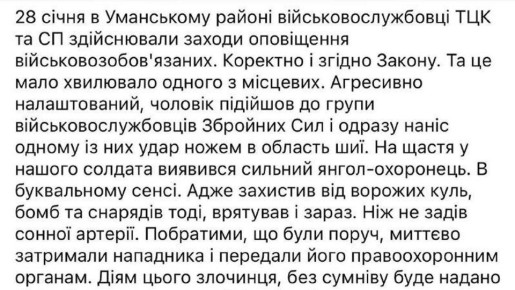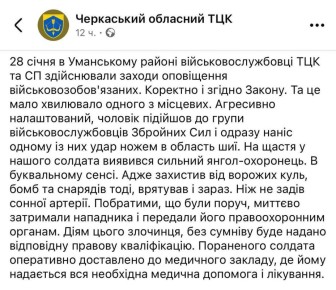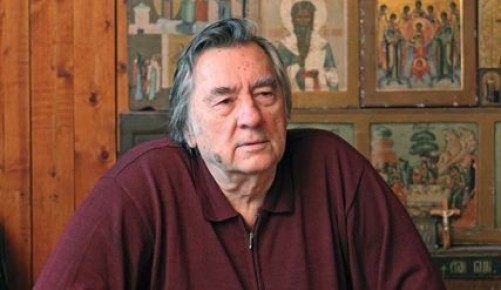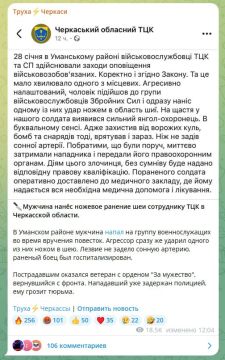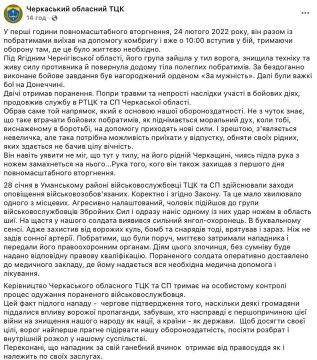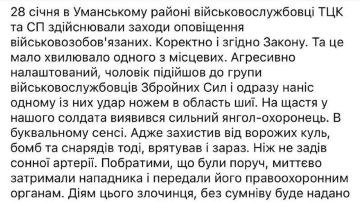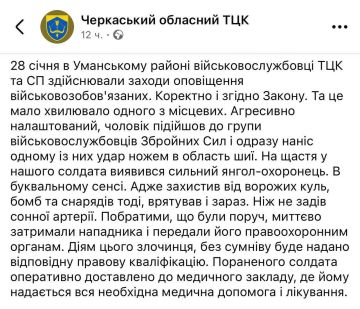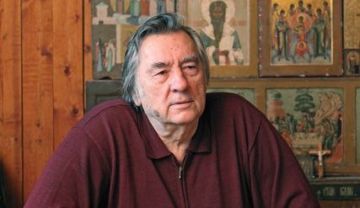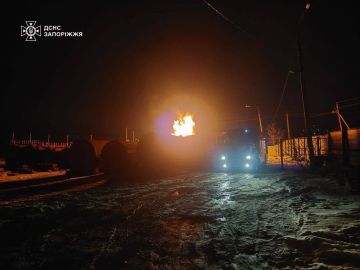4 августа 1900 года в местечке Смела Черкасского уезда Киевской губернии Российской империи родился Григорий Михайлович Штерн. Так сложилось, что наиболее известна его вторая половина жизни, где были гражданская война в Испании, бои на Хасане и Халхин-голе, Финская война и трагическая гибель. А вот украинский период жизни известен гораздо меньше
Будущий командарм родился в семье врача. Причём врача отнюдь не бедного, так как родители смогли обеспечить Грише Штерну полный гимназический курс, а это по карману было не всем. Хотя вряд ли все было гладко: в детской памяти должны были остаться воспоминания о тревожном периоде 1905-1907 годов, когда по всей Малороссии и югу России катилась волна еврейских погромов; в гимназической среде к евреям отношение тоже было не очень позитивным.
Закончить гимназию ему предстояло в 1918 году, и, так вышло, что еврейскому юноше из интеллигентной семьи в принципе не оставалось никакого выбора, кроме как окунуться в революцию. Тем более, что в Малороссии события разворачивались очень и очень захватывающие.
Для начала, с марта 1917 года сельская Малороссия взялась за вилы, топоры и уже появившиеся почти в каждой хате обрезы и пошла сама захватывать землю, не дождавшись решений из Петрограда. В Киеве образовался новый орган региональной власти – Центральная Рада, которая объединила самые разные политические круги. Большевики образовывали Советы, которые Раде никак не подчинялись. Весомым фактором стали многочисленные бывшие военнопленные австрийской армии галицкого происхождения, которые объединялись в курени. Тон среди них задавали очень известные в будущем деятели Роман Сушко, Андрий Мельник и Евген Коновалец.
В общем, Малороссия бурлила и эпицентром событий стал Киев, где Штерн и оказался. К кому примкнуть выбора у него особого не было. В Центральной Раде все громче и громче становился голос националистов, которые к евреям относились в лучшем случае недружелюбно. С представителями крупного бизнеса тоже не было ничего общего. Оставались большевики.
Штерн не мог не стать свидетелем (а может и участником) ноябрьских 1917-го и январских 1918 годов боев в Киеве с многочисленными жертвами, расстрелом рабочих завода "Арсенал" и очень быстро нарастающим взаимным ожесточением. В биографиях Штерна отмечается, что в 1918 году он находился в Киеве и работал в большевистском подполье. С 4 по 9 февраля власть в Киеве принадлежала Центральной Раде, затем в город ворвались отряды Красной Армии, в марте пришли немцы. Штерн наблюдал чехарду смены правительств: разгон Центральной Рады, диктатуру гетмана Скоропадского, приход Петлюровцев, еврейские погромы.
Пребывание в оккупированном немцами Киеве ему еще аукнется, но это потом. В какой-то момент ему пришлось бежать из УНР. В 1919 году он уже состоит на службе в РККА и вместе с 2-й Украинской стрелковой дивизией возвращается с боями на Украину. Ему всего 19 лет, но он занимает должность комиссара. Чтобы им стать Штерн должен был пользоваться полнейшим доверием "старших товарищей", быть достаточно известным и иметь среди большевиков определенный авторитет. Тем более, что… членом партии большевиков он ещё не был.
Красная Армия того времени – это очень и очень непростой организм. Крайне низкий уровень дисциплины, неизжитые стремление к партизанщине и анархии, насилие в отношении гражданского населения, сложные отношения с командирами, сложные отношения между командирами и командованием, и со всем этим надо было справляться, всё надо было разруливать…
Комиссар должен был иметь боевой авторитет. Не будут слушать бойцы, которым смерть грозит ежедневно, человека, который прячется за их спинами, который не понимает их психологию, который не умеет сам участвовать в бою. Карьерный путь Штерна до должности комиссара дивизии говорит о том, что Штерн авторитетом обладал – равно как и организаторскими способностями, и личной храбростью.
В течение года его дивизия участвовала в тяжелейших боях на Украине с петлюровцами и белогвардейцами. Освобождали Чернигов, Харьков, Екатеринослав, Умань, Полтаву. К декабрю вышли на границы Галиции.
Интересно, что в биографических справках отмечается, будто Штерн в 1920 году был переведён в 3-ю Казанскую стрелковую дивизию, которая воевала также на Украине. Причем на очень высокую должность: временно исполняющего дела военкома штаба. Но в списках военкомов и вообще командного состава в юбилейном издании "3-я Казанская стрелковая. 5 лет боевой жизни" 1923 года Штерн не значится. Сложно сказать, с чем это связано, может недоработка издателей, что вряд ли, может с краткосрочностью пребывания в дивизии, может с личными отношениями. Тем более, что в течение 1922 года он уже полноценный военком штаба дивизии. Но пребывание в 3-й Казанской в 1920-м году в любом случае означает, что он должен был участвовать в освобождении Крыма от Врангеля и в последующем уничтожении основного состава армии Махно.
Штерна перемещают с должности на должность в разные части очень быстро. В 1923 году он в течение десяти месяцев является военкомом штаба 1-го кавалерийского корпуса Червонного казачества. Там, скорее всего, происходит его знакомство с уже известным и авторитетным красным командиром Примаковым.
Вскоре его переводят в Туркестан, где красноармейцы гоняются за басмачами, басмачи – за красноармейцами. Штерн возглавляет политотдел 3-й отдельной Туркестанской бригады. Здесь ему все незнакомо: и люди, и методика ведения контрпартизанской войны в горных долинах, и климат. Война совершенно иная, нежели на знакомой с детства Украине, к тому же более жестокая. Басмачи буквально вырезают небольшие отряды. Попавших в плен долго и мучительно убивают или вообще сжигают живыми.
Несмотря на все сложности, в течение 1923-24 годов бригада полностью зачищает горную Фергану от басмачей. Крупнейшие банды разгромлены. Неуловимые до того курбаши Халбута, Исламкуль, Ахмат-Палван, Ярмат-Максум, Казак-бей или убиты, или взяты в плен.
А вот после Туркестана в жизни Штерна начинается очень интересный период. Сперва он отправлен в Москву в академию РРКА имени Фрунзе на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. С этим всё понятно, через это прошли многие красные командиры. Но затем – Восточный факультет той же академии. Это одно из самых секретных подразделений академии, в котором готовили дипломатов и разведчиков с прицелом на работу в странах Азии. Судя по списку преподаваемых языков – это Япония, Иран, Индия, Китай, Турция. Логично предположить, что далее Штерна ждала работа или в приграничье, или военным атташате, или военным советником, но…
Он возвращается на Украину причем с явным понижением: на должность всего лишь военкома 9-го Путивльского полка (2-я Черниговская им. Германской компартии Червонного казачества кавалерийская дивизия). В этой должности он находится в течение двух лет. Можно предположить, что в академии у него не сложилось, не проявил себя, оказался недостаточно умен….
В 1929 году он начинает работу в 4-м отделе IV управления Генштаба РККА. То есть именно в разведке в отделе внешних сношений. Почти сразу он в течение пяти лет делает головокружительную карьеру, дойдя до помощника по особо важным поручениям при наркоме обороны СССР… чтобы в марте 1936 года стать командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии. Опять понижение? Ну нет. Так не бывает. Скорее всего, Штерн должен был совершенствовать практический опыт командования соединением. Тем более, что вскоре случай представился. Гражданская война в Испании, куда Штерн отправился главным военным советником при республиканском правительстве.
В течение полутора лет он разрабатывает крупнейшие боевые операции по разгрому войск мятежников и итальянского корпуса, среди которых сражения на реке Эбро, под Гвадалахарой, Теруэлем… Значительно позже в адрес Штерна будут бросать обвинения в том, что он фактически ничем не руководил и его роль минимальна… Но произойдёт это тогда, когда сам Штерн уже не сможет никому ответить.
И республиканское правительство Испании, и руководство СССР деятельность Штерна оценили очень высоко. Карьера его в СССР с 1938 года шла по восходящей. В 1938 году он стал начальником штаба Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. Учитывая характер отношений с Японией, это было огромное доверие и очень ответственный пост. Когда начались бои на озере Хасан и командующий армией Блюхер оказался не в состоянии руководить, именно Штерн разработал и возглавил операцию по вытеснению японцев за линию госграницы. Отметив заодно, что воспетая в песнях армия, бывшая всегда на особом счету, на деле оказалась недостаточно подготовленной и умелой.
Затем – бои и победа на реке Халхин-Гол, вся слава которой впоследствии досталась Г.К. Жукову, хотя начальник Жукова командующий Фронтовой группой Штерн сделал не меньше (это как минимум) для обеспечения разгрома японцев. На нём было полностью все снабжение и обеспечение советской группировки в Монголии – на расстояние 3 тысячи километров без каких-либо намеков в монгольской степи на дороги.
К сожалению, два талантливых полководца – Штерн и Жуков – сработаться не смогли. Наркому обороны Ворошилову и начальнику Генштаба Шапошникову не раз приходилось вмешиваться, чтобы поставить Жукова на место. Но так или иначе тогда, в 1939 году, высшее партийное и военное руководство считало, что заслуга в победе на Халхин-Голе принадлежит обоим…
Казалось, что теперь карьерный путь пойдет по восходящей, и даже неудачная лично для Штерна война с Финляндией не смогла помешать, но 7 июня 1941 года он был арестован, обвинён в работе на германскую разведку, измене Родине и был расстрелян вместе с группой красных командиров 28 октября в овраге возле города Куйбышев. Обвиняли его в связи с троцкистами, подрыве Красной Армии и шпионаж в пользу Германии (аукнулось нахождение на оккупированной территории).
Реабилитировали Георгия Михайловича Штерна только в 1954 году.